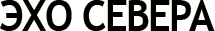Юноша, пишущий стихи, — не редкость. Однако случай Черникова интересен тем, что это каноничная для русской литературы история книжного мальчика-хулигана-провинциала, стоящего на грани гениальности.
При этом сам Черников провинцию ненавидит, считает провинциальность смертью для культуры и остро критикует сложившуюся систему клановости в актуальном литературном процессе, презирая «союзность» литераторов (недавно ИА «Эхо СЕВЕРА» опубликовало мнение молодого поэта насчёт появления в области «союза молодых литераторов», — прим. ред.).
На «снобистское» отношение к провинции Черников имеет полное право: мало кто в стране может похвастаться личным творческим вечером в Центральном Доме Литераторов в Москве, где выступали Евтушенко, Рождественский, Вознесенский. А Алексея Черникова позвало туда само руководство. К этому моменту юноше едва исполнилось 18 лет. Понятна его досада в адрес пожилых графоманов, подмявших под себя всю литературную жизнь региона. Эти «члены союза писателей» атакуют культурную повестку региона одними и теми же именами советских авторов, воспевавших деревню.
В Архангельске развёрнут такой культ Фёдора Абрамова, что от этого уже становится смешно. Абсурдно называть именем деревенского писателя аэропорт, создавать экспозицию из памятников (их там около 10 штук) в главной библиотеке региона, глупо постоянно твердить об одном и том же человеке. Против этой неумной спекуляции и выступает Черников как журналист и как поэт. Кажется, он — единственный пример «контркультуры» Архангельска на поприще изящной словесности.
Как бы то ни было, молодого автора заметил российский литературный процесс. Критик Анна Нуждина вот так сформулировала его литературный имидж и оценила талант Черникова в своей статьей «Свято место пусто не бывает»:
«Подобно тем, на кого Черников равняется, его прельщает жизнетворчество — поэтому публичное поведение поэта не менее эпатажное, чем его стихи. Он настолько, если смотреть со стороны, герметично замкнут в культурном пространстве столетней давности, что это, с одной стороны, привлекает внимание, а с другой — вызывает вопросы, откуда же поступает поэту свежий воздух.
Блок говорил о смерти Пушкина в контексте нехватки воздуха. Алексей Черников опирается и походит и на Блока, и на Пушкина, а также на Мандельштама, Гумилёва, Вертинского (бесконечной, как кажется, табачной и музыкальной темой). А по способу вхождения в литературу — на Есенина».
Другой известный критик, значительно повлиявший на теперешнее положение дел в поэтическом облике России, — Борис Кутенков — назвал Черникова одним из самых ярких дебютантов 2021 года по России. Такую похвалу поэт снискал за цикл стихотворений «Блатные элегии», вышедший в журнале «Знамя» в декабре прошлого года.
Вечер, который провёл в Архангельской Библиотеке-литературном музее Черников, прошёл неоднозначно. Среди публики нашлись те, кто принялся прямо с мест из зала вступать в конфликт с читающим поэтом, нравоучать, пророчить дурную судьбу.
Две пенсионерки сначала на ровном месте обвинили юношу в нарциссизме, а потом и вовсе сказали, что он едва ли поэт. «Кто вас признал?», — спросила женщина с первого ряда. «Бог», — парировал с улыбкой Черников, вспомнив процесс суда над Бродским, когда судья задал тот же вопрос рыжему «тунеядцу».
«Я собрал вас здесь, чтобы поделиться любовью и тоской», — заявил поэт во вступительном слове. Тоской — высшей, которая высокое чувство, а не унылое. Это ему удалось, но любви было всё-таки больше. Многим известна история юноши и его возлюбленной: он посвящает ей буквально всё, что публикуется в крупнейших поэтических изданиях. Девушку зовут Виктория, и она, по признанию юноши, — его «соавтор».
Поэт уверяет, что без её присутствия в его жизни у него не получилось бы написать того, что он сейчас пишет. На вечере было прочитано много стихотворений о любви, о женщине как о «зеркале Божьем». Пожалуй, это лучшая тема для Черникова. В том числе и потому, что молодой человек — ортодоксальный христианин, он придерживается воззрений философа Владимира Соловьёва и Достоевского, чьими главными идеями традиционно считаются вопросы объединения человечества во имя вселенской любви.
Вскоре Алексей Черников планирует провести ещё несколько вечеров по Архангельску, в том числе в Добролюбовке. «Вот так и стану пророком в своём отечестве», — шутит поэт. Получив признание среди столичной поэтической молодёжи и крупных «акул пера», он хочет поделиться стихами и с родным городом. Что ж, мы будем наблюдать из столицы.
Автор — Матвей Андреев, обозреватель московской периодики
***
«Публика у нас невоспитанная, советская, варварская. Надо заняться облагораживанием. Стихи есть, желание делать людей ближе друг другу и радостнее, хотя бы на время творческой встречи, — тоже есть. Но первая цель моих выступлений — делать культурную жизнь города хоть сколько-нибудь живой. Я хочу оставаться поэтом для самого себя и для идеального читателя, который ещё не родился, а в публичном пространстве я хочу быть образом, фигурой, харизматиком, который будет выводить людей на эмоции, провоцировать их к чтению хорошей литературы, к духовному деланию самого себя.
Невозможно быть поэтом на публике, даже в присутствии самых родных. Это дело требует одиночества, чтобы можно было подхватывать музыку грядущего стиха из воздуха, ни на что не отвлекаясь, а потом долго и кропотливо её обрабатывать, приращивать к её глуповатому полёту ум, грамматически и стилистически приводить написанное в порядок.
Это и есть поэзия. Её нельзя публично показать или озвучить, поэтому название моего первого вечера в Архангельске — „Иконы для слуха“ — красивая приманка для достопочтенных мещан. В то же время стихи и должны быть иконами для слуха, только в интимной обстановке, когда человек наедине с собой и имеет дело только с поверхностью, на которой напечатан текст.
Ему не нужны посредники. Вот моя роль — спровоцировать интерес местной публики к интересной поэзии, которая остаётся незамеченной из-за культа деревенщины, совдепа и сусальных берёзок. Дальше будет ещё художественнее и беспардоннее!» — рассказал Алексей Черников ИА «Эхо СЕВЕРА».

ИСПОВЕДЬ ПРОВИНЦИАЛА
Счастливые уехали в Москву,
А я учусь терпению и дому,
По железнодорожному мосту
Рассеивая прежнюю истому.
Счастливые уехали в Москву,
А я остался — длинный, бледнолицый.
Они к доказанному Рождеству
Не грянут в лоскуты своих провинций.
А если грянут — будут поезда,
Как жесты и слова их, торопливы.
В четыре направления звезда
Висит в тени столичной перспективы.
Счастливые уехали в Москву,
И будни их полнее киноленты.
А я за всех целую здесь листву, —
Чего с них взять? Невесты да студенты.
Благословляю парки и дворы,
Прощаю за прощание, глупею.
Прокисший воздух стал желтей махры,
А память стала Родиной моею.
Я, может быть, и сделался без вас
Вполне собой в часы тоски большие.
Спасибо вам за новый мой анфас
И новый профиль, близкие чужие!
Я мог сказать: далёкая родня,
Но так — честней для нашего развала.
Я понял вдруг, что и в Москве меня
Совсем не близость с вами ожидала.
Но не в досадах, не в покрое душ,
Не разночинстве вкусов стало дело.
Мне надоели поиски и пунш,
А вам оно ещё не надоело.
Нам есть о чём потолковать в пути,
Я складно с вами постоял на старте.
Но всё нашёл, — мне нечего найти, —
Но всё в себе пометил, как на карте.
Пространство, время, возрастных примет
Несложный ряд, — всё выучено точно:
Я отменил их, не купив билет,
Затем, что их не существует. Точка.
Я по письму вам всем понапишу,
И будет новым почерком другое.
Желаю вам не льнуть к карандашу
И мной не стать в словесном перегное.
И вместо нашей, — хоть и маскарад, —
Подхватывать столичную простуду.
Доехали? Вы счастливы? Я рад.
А я поспал и тоже счастлив буду.
Не припишите рвения к родству
Юродству моему и этим письмам.
Счастливые уехали в Москву.
И листья занялись самоубийством.
***
Раз в полгода я меняю стрижку,
тку интрижку, говорю во сне
и перевожу большую книжку
с языка, пришедшего извне.
Лицеист изучит бледнолицый,
набормочет при смерти зека
выданный в тисках моих транскрипций
подлинник такого языка.
И неясно, за какое благо,
если я всё делаю не так,
светится от слов моих бумага
и не укоряет, что дурак.
Раз в полгода жалуюсь на совесть,
плохо ем, откладываю сны
и живу последним слухом, то есть
всё теряю, кроме тишины.
Но и это всё-таки приятней,
чем война, семья и цвет песка,
жёлтый двор за старой голубятней,
матерное слово, дом, тоска.
***
Я стал совершеннее в вере,
когда разглядел вдалеке
из чистого фосфора двери
на облаке, то есть в реке.
Но было в минуту отлива
до неба в воде далеко,
и в ней умирало лениво
не облако, а молоко.
И красила береговые
песчаные губы волна
в холодные и роковые
прокисшей побелки тона.
Вода, как артистка большая,
до Пасхи скрывается в грим,
себя и меня воскрешая
раз в год, а иначе — сгорим.
А после — туманность сырая,
и всё, что имею вблизи, —
на лужах осколки из рая
да яблони в майской грязи,
и люди — сплошные намёки
на лучшее, что предстоит.
На лучшие реки, на строки,
на жизнь, пристыдившую стыд.
***
Стихи — Алексей Черников